Библиография
1. О государственной независимости Эстонии // Ведомости Эстонской Республики. 21 августа 1991. № 25.
2. Конституция Эстонской Республики / Сайт президента ЭР. URL: httр:// www.president/ee/ru/republic-of-estonia/ index.html (дата обращения 31.07.2023).
3. Закон «О культурной автономии национального меньшинства Эстонской Республики». URL: httр://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/elfinder/article_files/vahemusrahvuste_kultuuriautonoomia_seadus.pdf (дата обращения 31.07.2023).
4. Департамент статистики Эстонской Республики. URL: httр://www.state.ee/34267 (дата обращения 31.07.2023).
5. Стратегия «Эстония 2035». URL: httр://www.valitsus.ee/media/4144/download (дата обращения 31.07.2023).
6. Эстония сегодня. Гражданство / Департамент прессы и информации МИД эстонской республики при участии Департамента гражданства и миграции Эстонии. URL: httр://www.estemb.ru www.vm.ee (дата обращения 31.07.2023).
7. Воротников В. В. Прибалтийские этнократии между Россией и Европой: поиск консенсуса в условиях экономического кризиса // Вестник МГИМО Университета. 2013. № 6 (33). С. 25– 33.
8. Егоров А. М., Егоров И.А. Правовая культура пограничного региона накануне распада Советского Союза: по материалам работы судебных учреждений Псковской области (историко-правовой аспект) // Социокультурная среда: системная организация, антропологическое измерение, пограничная специфика: Материалы международной заочной научно-практической конференции, Витебск, 16 ноября 2018 года / Витебский государственный университет им. П.М. Машерова. Витебск: Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 2018. С. 112 – 115.
9. Егоров А. М. Псковские пограничные районы в 1920-1930-е гг. (Ист. уроки развития) : специальность 07.00.02 "Отечественная история" : диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Санкт-Петербург, 1998. 218 с.
10. Егоров А. Претензий не заявлено // Родина. 2014. № 11.С. 130– 131.
11. Зверев К. А. Становление государственной политики Эстонской Республики в отношении русскоязычного населения (1992-2007) // Клио. 2015. № 8 (104). С. 164– 167.
12. Задоркин Д. В. Русская община в Прибалтике: причины дискриминации // Вопросы национальных и федеративных отношений. Вып. 3 (38). 2017. С. 179– 191.
13. Минеев А. И., Айдаров А. Национальные меньшинства в государственной политике: опыт России и Эстонии // Исторический поиск. 2020. Т. 1. № 4. С. 63– 68.
14. Мусаев В. И. «Русский вопрос» в странах Балтии в 1990-х –2000-х гг. и российско-прибалтийские отношения // История и историческая память. 2011. № 4. С. 87– 106.
15. Руус Ю. Элиты этнических меньшинств в посткоммунистических странах: случай Эстонии // Сравнительная политика. 2012. № 3 (9). С. 99– 125.
16. Симонян Р. Х. Русскоязычная диаспора в странах Балтии: современное состояние и перспективы // Балтийский регион. 2022. Т. 14. № 2. С. 144-157. DOI: 10.5922/2079-8555-2022-2-9.
17. Скуратовская К. Г. Современное положение русской этнической группы в Эстонии: политологический анализ // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. Политология. Международные отношения. 2016. Вып. 1. С. 85– 96.
18. Сытин А. Н. Политика Латвии и Эстонии в области национальной и межобщинной интеграции // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. 2010. № 1. С . 172 – 181.
19. Bayramov S. V., Dadashov K., Dadashova K., Egorov I. European Integration Processes in EECCA: Dependencies and Drivers. // Journal of Ethnic and Cultural Studies. 2023. № 10 (2). С. 41– 74. URL: https://doi.org/10.29333/ejecs/1484.
20. Implementing the A arhus Convention / R. Yerezhepkyzy, A. Egorov, A. Sadvokassov, V. Shestak // European Energy and Environmental Law Review.2021. Vol. 30, No. 4. P. 120– 127.
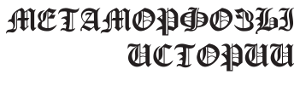
Комментарии
Сообщения не найдены